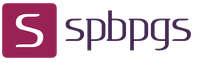Литературно-музыкальная композиция к Дню Победы
«Давно закончилась война»
Чтецы читают отрывок из «Реквиема» Р. Рождественского.
Через века, через года, - помните!
О тех, кто уже не придет никогда, -
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
Покуда сердца стучат, - помните!
Какою ценой завоевано счастье, -
Пожалуйста, помните!
Детям своим расскажите о них,
чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них,
чтобы тоже помнили!
Звучит мелодия довоенного танго. Это может быть «Рио-Рита» или «В паркеЧаир».
Несколько пар нарядно одетых юношей и девушек танцуют этот танец,который неожиданно
прерывают звук воздушной тревоги и разрывы падающих бомб.Танцующие замирают. Звучит
мелодия «Священной войны».
Чтецы.
Война! Жесточе нету слова!
Война! Страшнее нету слова!
И на устах у всех иного
Уже не может быть и нет!
«Тяжкий грохот обрушился на землю. Вмиг погас свет. Вздрогнули стены каземата.С потолка
сыпалась штукатурка. И сквозь оглушительный вой и рев все яснее ияснее прорывались
раскатистые взрывы тяжелых снарядов. Рвануло где-то совсемрядом.
Война! - крикнул кто-то.
Война это, товарищи, война!
Наружную дверь смело взрывной волной, и сквозь нее видны были оранжевыесполохи
пожаров. Тяжко вздрагивал каземат. Все вокруг выло и стонало. И былоэто 22 июня 1941 года в 4
часа 15 минут по московскому времени».
Б. Васильев. «В списках не значился».
Гаснет свет. Идут слайды о войне.
Чтецы.
Победа! Как она досталась?
Каким путем вы к ней пришли?
И раны были, и усталость,
И шрамы на груди земли.
Броня во вмятинах глубоких,
И дали пройденных дорог,
И ордена на гимнастерках,
Где пот нещадно ткань прожег.
Могилы братские, в которых
Друзья погибшие лежат.
И. Дашков. «Победа».
Вокальная группа исполняет 1-й куплет песни М. Исаковского «Огонек».
На позицию девушка провожала бойца.
Темной ночью простилися на ступеньках крыльца.
И пока за туманами видеть мог паренек,
На окошке на девичьем все горел огонек.
Чтецы.
И Кама, и Волга на битву сынов провожали,
И матери долго цветными платками махали.
Прощались невесты - косички девчоночьи мяли,
Впервые по-женски любимых своих целовали.
Гремели колеса, литые колеса гремели,
И пели солдаты, совсем по-мальчишески пели
Про белые хаты, про верную Катю-Катюшу...
И рвали те песни комбата отцовскую
М. Гриезане. «Обелиски».
Вокальная группа исполняет 1-й куплет песни Э. Галицкого, Г. Максимова«Синий платочек».
Синенький, скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила, что не забудешь
Милых и радостных встреч.
Порой ночной
Мы расставались с тобой...
Нет прежних ночек!
Где ты, платочек,
Милый, желанный, родной?
И между строчек
Синий платочек
Снова встает предо мной.
И мне не раз
Снились в предутренний час
Кудри в платочке,
Синие ночки,
Искорки девичьих глаз.
Выступление очевидца боев, ветерана Великой Отечественной войны.
Чтец.
1941 год. Один из гитлеровских генералов так докладывал в ставкуГитлера о прорыве Брестского
укрепрайона: «Русские, однако, оказались настолькохорошими солдатами, что не растерялись от
неожиданного нападения. На отдельныхпозициях доходило до ожесточенных боев».
Звучит мелодия песни «Катюша».
Чтец.
Вокзал был тихим,
Маленьким и грустным.
Жевали с хрустом лошади овес.
Но вот под шпалой резко гравий хрустнул,
И задрожали рельсы от колес.
И к полустанку выплыли теплушки.
Березы у перрона встали в строй.
И запоздало охнула частушка,
Наполненная болью и тоской:
Милый едет воевать,
Надел рубашку белую.
Я все время буду ждать,
Изменушки не сделаю.
И лопнуло мгновенно напряженье,
Хлестнуло в сердце жарким и тугим,
А как же мы... Себя побереги! -
А он пошел, уже солдат России,
К теплушкам, к погрустневшим землякам,
И сыновья с ним рядышком босые
По-взрослому шагали по бокам.
А женщина осталась небольшая, -
С нее печаль бы русскую писать!
Она в карманах суетливо шарит
И все платка не может отыскать.
И в толкотне ей удалось всмотреться -
Целует муж заплаканных ребят...
И сквозь поселок, словно через сердце,
Ушел состав в пылающий закат.
В. Соловьев. «Полустанок».
Вокальная группа исполняет 1-й куплет песни «Эх, дороги» (музыка А.Новикова, стихи Л.
Ошанина).
Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян...
Знать не можешь
Доли своей,
Может, крылья сложишь
Посреди степей.
Вьется пыль под сапогами
Степями, полями.
А кругом бушует пламя
Да пули свистят...
Мелодия песни продолжается. Идут слайды о войне. На их фоне чтец
зачитываетвоспоминания о войне.
Чтец.
1942 год. Старшина рванул скособоченную дверь, прыжком влетел в избу. - Хендехох!.. Немцы
спали. Они отсыпались перед последним броском к железке. Старшиназабыл вдруг все немецкие
слова и только хрипло кричал:
Лягайт!.. Лягайт!.. Лягайт!..
И ругался черными словами! Самыми черными, какие знал. Нет, не крика онииспугались, не
гранаты, которой размахивал старшина. Просто подумать не могли,что один он, на много верст
один-одинешенек. Все четверо легли мордами вниз,как велел Басков. Пятый, прыткий самый, уж
на том свете числился. Повязали онидруг друга ремнями, а последнего Федот Евграфыч лично
связал. И заплакал. Слезытекли по грязному, небритому лицу. Он трясся в злобе, и смеялся сквозь
этислезы, и кричал:
Что, взяли? Взяли, да? Пятьдевчат, пять девочек было всего, всего пятеро! А не прошли вы,
никуда не прошли и сдохнете здесь, все сдохнете!.. Лично каждогоубью, лично, даже если
начальство помилует! А там пусть судят меня! Пусть судят!
Б. Васильев. «А зори здесь тихие».
Чтецы (инсценированное стихотворение И. Уткина «Бабы»).
Прибегают к штабу бабы,
Говорят: - Начальник штаба,
Высылай скорей отряд.
За селом у нас в овине
Люди видели живыми
Трех фашистов, - говорят.
Командир суров и бледен. -
Я людьми сегодня беден.
Все в расходе... Как мне быть
Одному?.. Вот если, кабы
Подсобили вы мне, бабы.
Бабы: - Рады подсобить!
Ну, тогда, - сказал он, - нате. -
Выдал бабам по гранате
И повел их за собой.
И пошел начальник штаба,
Объясняя вкратце бабам,
Как ведут гранатный бой.
За селом овин душистый.
Прикорнули три фашиста,
Крепко в сене спят... И вот
Рвется первая граната,
И гремит приказ раскатом:
По врагу!.. Гранаты! Взвод!
Дрогнули враги спросонок -
Под огнем не до фасона! -
Поднимают руки враз,
Подтянули только брюки,
Но когда подняли руки,
Поразились: «Вас ист дас?!
Взвод... Гранаты... А на деле?»
А на деле поглядели:
Вот так штука, черт возьми!
Впереди начальник штаба,
А вокруг овина... бабы!
И не более восьми!
Звучит мелодия песни «В лесу прифронтовом». Идут слайды о войне.
Чтец (воспоминания-документы о войне 1943 года или письма сфронта).
Из письма Михаила Евдокимовича Ревы, жене. ПИСЬМО С ФРОНТА.
«...Прошу тебя, Анна, не плакать. На мою долю выпало большое счастье - защищатьгород
Ленина. Большего счастья не надо, только бы мы увиделись с тобой. Еслинадо будет отдать жизнь
во имя поставленной командованием задачи, я отдам еесгордостью. К вам в Донбасс движется
банда Гитлера. Если ты не сможешьэвакуироваться, то поезжай к моим родным и делай хотя бы
что-нибудь на пользунашей армии. Береги нашего сына. Целую тебя и сына. Михаил».
Фонограмма «Стук вагонных колес».
Чтец.
Везет на фронт мальчика
Товарищ военный врач...
«Мама моя, мамочка,
Не гладь меня и не плачь!
На мне военная форма,
Не гладь меня при других!
На мне военная форма,
На мне твои сапоги.
Не плачь!
Мне уже двенадцать,
Я взрослый почти...
Двоятся, двоятся, двоятся
Рельсовые пути...
В кармане моем документы,
Печать войсковая строга.
В кармане моем документы,
По которым я - сын полка.
Прославленного, гвардейского,
Проверенного в огне...
Я еду на фронт, я надеюсь,
Что браунинг выдадут мне.
Что я в атаке не струшу,
Что время мое пришло...
Завидев меня, старухи
Охают тяжело:
«Сыночек, солдатик маленький...
Вот ведь настали дни...»
Мама моя, мамочка!
Скорей им все объясни!
Скажи, чего это ради
Они надо мной ревут?
Зачем они меня гладят?
Зачем сыночком зовут?
И что-то шепчут невнятно,
И теплый суют калач...
Россия моя, не надо!
Не гладь меня! И не плачь!
Не гладь меня!
Я просто будущий сын полка,
И никакого геройства
Я, не свершил пока!
И даже тебе не ясно,
Что у меня впереди...»
Двоятся, двоятся, двоятся
Рельсовые пути.
Поезд идет размеренно,
Раскачиваясь нелепо,
Длинный и очень медленный,
Как очередь за хлебом.
Р. Рождественский. «В сорок третьем».
Слайды о работе тружеников тыла. Выступление ветерана тыла.
Воспоминания.Документальный материал на 2-3 минуты.
ТЫЛ - ФРОНТУ. Ленинград. Зима 1941-1942 гг. была на редкость суровой.Блокада. Только в
декабре от голода умерло 53 тыс. человек. В январе-февралееще больше. Несмотря на это,
осажденный город, погруженный во тьму, голод,холод, подвергаемый бомбежкам и
артобстрелам, жил, работал, боролся. Вместе совзрослыми к станкам встали подростки. За этот
период было изготовлено: 95 тыс.корпусов снарядов и мин.; 380 тыс. гранат; 435 тыс. взрывателей.
Люди были сплоченными, и эта сплоченность помогала жить. Из сводок тоговремени,
публикуемых в газетах Осенью 1942 г. Сталинградскому, Донскому,Юго-Западному фронтам было
отправлено: валенок - 41 тыс. пар; полушубков - 19тыс.; стеганых фуфаек и шаровар - 112 тыс.;
рукавиц и шерстяных носков - 52тыс. пар; шапок-ушанок - 42 тыс.
Звучит мелодия песни «Ой, туманы мои».
Чтец.
Вся ночь пролетела, как страшный бред.
Расстрел, назначили рано.
А было ему шестнадцать лет,
Разведчику-партизану.
В сенях умирал заколотый дед.
Сестренке ломали руки.
А он все твердил упрямое «Нет!» -
И стоном не выдал муки.
Вдоль сонной деревни его вели
В пустое мертвое поле.
Морозные комья стылой земли
Босые ступни кололи.
Мать вскрикнула тонко, бела, как мел,
И в поле вдруг стало тесно.
А он подобрался весь и запел
Свою любимую песню.
На залп он качнулся лицом вперед
И рухнул в холодный пепел.
Ты понимаешь - такой народ
Нельзя заковать в цепи.
А Сурков. «Однажды ночью».
Вокальная группа исполняет 2-й куплет песни Е. Винокурова «Москвичи».
В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Сережка с Малой Бронной
И Витька с Моховой.
А где-то в людном мире,
Который год подряд,
Одни в пустой квартире
Их матери не спят.
Мелодия песни продолжается.
Чтец.
Пошли на смертный бой с врагами
Ее орлы, ее сыны.
Мать ожидает их годами:
Быть может, все ж придут с войны...
Спит у Мамаева кургана,
Под Сталинградом, сын один,
Другой - средь моря-океана,
Средь хмурой Балтики глубин.
А самый младший у Дуная:
Медали говорят о том...
А мать все верит, ожидая,
Что возвратятся дети в дом.
Сидит недвижно у дороги
С застывшим каменным лицом...
А может, это профиль строгий
На камне вырезан резцом?
Л. Забашта. «Мать».
Слайды с памятниками-монументами погибшим на войне.
Чтецы.
Разве погибнуть ты нам завещала,
Жизнь обещала, любовь обещала,
Разве для смерти рождаются дети,
Разве хотела ты нашей смерти,
Пламя ударило в небо - ты помнишь,
Тихо сказала: «Вставайте на помощь...» -
Славы никто у тебя не выпрашивал,
Просто был выбор у каждого: я или
Самое лучшее и дорогое -
Горе твое - это наше горе,
Правда твоя - это наша правда,
Слава твоя - это наша слава,
Р. Рождественский. «Реквием».
Вокальная группа исполняет 1-й куплет песни М. Ножкина «Последний бой».
Мы так давно, мы так давно не отдыхали,
Нам было просто не до отдыха с тобой.
Мы пол-Европы по-пластунски пропахали,
И завтра, завтра, наконец, последний бой.
Припев:
Еще немного, еще чуть-чуть.
Последний бой - он трудный самый.
А я в Россию, домой, хочу,
Я так давно не видел маму!
Выступление ветерана. Воспоминания о наступлении, последних днях войны 1945года.
1945 год. Еще не остыли орудия. Еще догорают пожарища. Еще не подобраны убитые...Пленные
сдают оружие. Из подвалов выходят берлинские жители и выстраиваются вочередь за солдатским
супом, который выдают на площадях наши фронтовые повара.А над Рейхстагом алеет советский
Кантария, русский и грузин, поднялисоветский флаг над Рейхстагом.
Звучит мелодия песни «Соловьи».
Чтец.
Еще стояла тьма немая,
В тумане плакала трава,
Девятый день большого мая
Уже вступал в свои права.
Армейский зуммер пискнул слабо.
Два слова сняли грузный сон,
Связист из полкового штаба
Вскочил и бросил телефон.
И все! Никто не звал горнистов,
Никто не подавал команд.
Был грохот радости неистов,
Дробил чечетку лейтенант.
Стреляли танки и пехота,
И, раздирая криком рот,
Впервые за четыре года
Палил из «вальтера» начпрод.
Над мутной торопливой Тиссой
И стрекот выстрелов, и гул.
К жаре привыкший, повар лысый
Зачем-то ворот расстегнул.
Не рокотали стайки «Яков»
Над запылавшею зарей,
И кто-то пел,
И кто-то плакал,
И кто-то спал в земле сырой.
Вдруг тишь нахлынула сквозная,
И в полновластной тишине
Спел соловей, еще не зная,
Что он поет не на войне.
И. Рядченко. «В день окончания войны».
Фонограмма: звук трелей соловья. Вокальная группа исполняет 1-й куплет песниМ. Ясеня
«Майский вальс».
1. Весна сорок пятого года...
Как ждал тебя синий Дунай!
Народам Европы свободу
Принес жаркий солнечный май.
На площади Вены спасенной
Собрался народ стар и млад -
На старой, израненной в битвах гармони
Вальс русский играл наш солдат.
Припев:
Помнит Вена,
Помнят Альпы и Дунай
Тот цветущий
И поющий яркий май.
Вихри венцев
В русском вальсе сквозь года
Помнит сердце,
Не забудет никогда!
Идут слайды о ветеранах, крупно фотографии.
Чтецы.
Стираются лица, стираются даты,
Порой ваша память не все сохранит,
Но видят и нынче седые солдаты
Приволжскую степь, черноморский гранит.
Пути фронтовые припомнятся снова,
Лишь карт пожелтевших коснетесь рукой:
Снега под Москвою, дожди под Ростовом,
Апрельский туман за чужою рекой.
Какими путями прошли вы, солдаты,
Какие преграды сумели сломить!
Стираются лица, стираются даты -
Военных дорог никогда не забыть!
Далекое время вам кажется близким,
Да нет очень многих друзей среди вас -
Пути отмечая, стоят обелиски,
Ведут о боях молчаливый рассказ...
Стираются даты, стираются лица,
Но будет победно и вечно цвести
Девятого мая салют над столицей,
Связавший узлом фронтовые пути.
Матвеев. «Пути фронтовые».
Чтец.
Вот так новость: бабушка сказала,
Что она сражалась в партизанах!
Ты ж трусиха, милая бабуля...
У меня - пустяшная простуда,
У тебя - сейчас же с сердцем худо.
Если оцарапаюсь до крови,
Ты теряешь все свое здоровье.
А когда в кино палят из пушек,
Ты же сразу затыкаешь уши!
Бабушка в ответ сказала тихо:
Верно! Я тогда была трусиха...
И тогда при виде чьей-то крови
Начисто теряла я здоровье,
А когда с пригорка пушка била,
Мне за всю деревню страшно было!
Только за себя я не боялась.
Так вот и в отряде оказалась.
М. Борисова. «Бабушка-партизанка»
Чтец.
На груди - ордена,
На висках - седина,
Позади боевые походы.
Не грусти, старина,
Что украла война
Ваши лучшие юные годы.
Снятся Днепр и Моздок
И тревожный гудок,
Снятся вам штыковые атаки.
Поезда - на восток,
Облака - на восток,
Вы - на запад, под пули и танки.
В двадцать лет седина...
Не грусти, старина,
Трудный век вам судьбою положен.
Ваша нам седина,
Ваши нам ордена
С каждым годом родней и дороже.
На висках седина.
За окном тишина.
Пусть она никогда не взорвется.
Пусть пришла седина,
Но осталась страна,
Что Великой Россией зовется!
Н. Шумаков. «Ветеранам».
Чтецы и вокальная группа исполняют песню С. Кочуровой «ДАВНО ЗАКОНЧИЛАСЬВОЙНА».
Давно закончилась война,
Давно с войны пришли солдаты.
И на груди их ордена
Горят, как памятные даты, -
За Брест, Москву, за Сталинград
И за блокаду Ленинграда,
За Керчь, Одессу и Белград,
За все осколки от снарядов.
А по ночам вам до сих пор
Бои под Бугом где-то снятся,
И «мессеры» строчат в упор,
И из ложбинки не подняться.
Зовет в атаку лейтенант,
Но тут же падает, сраженный...
А дома долго будут ждать,
Но лишь дождутся похоронной.
В один и тот же день и час
На встречу вы к друзьям спешите,
Но с каждым годом меньше вас,
И нас за это вы простите,
Что не сумели вас сберечь,
Не залечили ваши раны.
И вот на место этих встреч
Приходят внуки ветеранов.
Давно закончилась война.
Давно с войны пришли солдаты.
И на груди их ордена
Горят, как памятные даты.
Вам всем, кто вынес ту войну -
В тылу иль на полях сражений, -
Принес победную весну, -
Поклон и память поколений.
Вручение цветов ветеранам.
У Фрола был пистолет.
– На пути не стой, у меня писто́ль… – приговаривал иногда тощий тонкошеий Фрол и поглаживал за пазухой кривую рукоять. При этом голос его звучал шутливо и даже ласково, но в прищуренных глазах ласки не было.
Старинное слово «пистоль» очень подходило для этого грозного предмета. Пистолеты подобного образца даже до войны считались устаревшими. Конечно, во время осады ими еще пользовались – и русские, и французы, и, особенно, турки (у тех вообще встречалось оружие времен покорения Крыма), однако пользы в бою от таких кремневых громыхальников было немного. Что они по сравнению с шестизарядными французскими револьверами!
Впрочем, и Фролкин пистолет оказался из Франции. На внутренней стороне фигурно выгнутой скобы были различимы буквы: «Paris 1837».
Фрол отыскал этот трофей на пустоши перед бывшим люнетом Белкина, недалеко от кладбища, среди груд мусора и земли. Здесь много чего можно было отыскать. Во время осады русские минеры заложили на этой пустоши фугасы, и сигнал электрической искры в один миг обратил в прах атакующую французскую колонну…
Впрочем, все это Коля Лазунов узнал позже. А со стрельбы из старого пистолета началось его прочное знакомство с компанией из Боцманского погребка.
В тот ноябрьский день Татьяна Фаддеевна впервые позволила Коле погулять одному. До сей поры не решалась: всюду развалины, черные окна пустых домов, изгибы каменных заборов и переулков, где чудится неведомое. И мальчики, которые порой встречались ей, вызывали невольный страх. Неумытые, верткие, с быстрыми уклончивыми взглядами, в немыслимом каком-то платье. Конечно, дети всегда дети, но кто знает, сколько дурного впитали они от здешней неустроенной жизни…
Однако нельзя постоянно держать у своей юбки племянника, которому скоро двенадцать.
Все-таки она сказала от калитки:
– Николя́, я умоляю. Не ходи далеко и не гуляй долго. На первый раз хватит и получаса…
Думала, он станет ершиться: что, мол, я разве маленький! Но Коля отозвался покладисто:
– Тё-Таня, я только до спуска к дороге и обратно. Не бойтесь, никуда не денусь.
Поправил капитанскую фуражку, простучал сапожками по плитам с подсохшей грязью и свернул (не оглянувшись!) в проход между известняковой изгородью и бугристой туфовой стеной разбитой казармы.
Татьяна Фаддеевна сделала усилие, чтобы не пойти следом. Глянула на приколотые к блузке часики и ушла в дом. Коля же, избавившись от тревожного взгляда в спину, попрыгал вниз по скругленным выступам каменистой тропинки.
День был холодный, ветреный, но сухой. Солнце то и дело выскакивало из серых облаков. Кое-где зеленела трава и желтела храбрая упрямая сурепка, но высокие сорняки были уже сухие и серые. Бурьян и полынь… Впрочем, ведь и летом полынь кажется сероватой. Коля сам не видел, но читал про это.
У крепостного палисада
Седеет древняя полынь…
Он дернул пальцами хрупкий куст, растер в ладонях зернышки, поднес руки к лицу. Полынный запах знойного лета сразу будто пропитал его насквозь. Коля постоял зажмурившись. А когда опустил ладони и открыл глаза, увидел мальчишек.
Разумеется, это были местные жители, хозяева здешних пустырей и переулков.
Идти навстречу Коля не решился. Повернуться и зашагать назад – тем более (хватит с него прежнего малодушия!). Оставалось смотреть, как подходят они. И стараться выглядеть при этом независимо.
Ребят было пятеро. Самый большой двигался посредине. Был он длинный, постарше Коли, в замызганной чиновничьей тужурке до колен, из-под которой торчали серые лохматые штаны. А из них – голые (видать, озябшие) щиколотки. Башмаки были из рыжей кожи, разбитые и чересчур большие. Из ворота тужурки высовывалась немытая шея с головой, похожей на покрытое рыжеватым пухом яйцо (шапки не было).
Слева от длинного шли круглолицый татарчонок в бархатной затертой шапчонке, в стеганом рванье до пят и смуглый, верткий мальчишка с быстрым веселым взглядом – про такого говорят «востроглазый». Был востроглазый в косо надетом рваном треухе и в серой, без приметных деталей одежке. И он, и татарчонок – чуть поменьше Коли.
С другого «фланга» двигались двое. Один – видимо, Колин одногодок, другой – лет восьми. Кажется, братья. Оба круглощекие, светлоглазые, с похожими на кукольные башмачки носами. В аккуратных бушлатиках (наверно, перешитых из взрослой флотской одежды), в мятых матросских фуражках без козырьков – слишком больших, как и Колина «ропитовская» капитанка. Штаны братьев украшали на коленях одинаковые квадратные заплаты, а сапожки были без заплат – грязные, но вполне справные.
Братья смотрели с любопытством и, кажется, без вражды. Татарчонок – непонятно. Востроглазый – подозрительно. Длинный оттопырил большую нижнюю губу и на ходу щелкал по ней мизинцем.
Остановились в трех шагах. Длинный еще раз щелкнул по губе и прошелся по Коле скучноватым взглядом.
– Ишь какой… Раньше не встречались. Кто таков и откуда взялся?
– Из Петербурга. – Коля постарался говорить независимо, но без задиристости. Глядишь, встреча обойдется миром.
– У-у… – с дурашливым удивлением отозвался длинный. И остальные (кроме маленького) вытянули губы трубками, словно тоже хотели сказать «у-у».
Длинный опять щелкнул по губе.
– А фуражка-то капитанская откуль? Небось папенька подарил?
– Папеньки у меня нет… – Коля понимал, что в ответ на это спокойное признание насмешки не последует. Ведь не злодеи же, хотя и обтрепанного вида.
И в самом деле, смущение скользнуло по всем лицам. Но его тут же как бы стер своими словами востроглазый:
– Значит, маменька купила. В «ропитовской» лавке.
– Маменьки тоже нет… А фуражку подарил капитанский помощник на пароходе «Андрей Первозванный», когда мы плыли сюда из Одессы.
– Это за какие твои красивые глаза? – с прежней скукою в голосе не поверил длинный. Как бы специально не придавая значения тому, что нет у мальчика ни отца, ни маменьки.
– Не за глаза, а… потому что был шторм, многие укачались, а я вышел гулять и забрался на мостик. Там были моряки, один и говорит: «Вот тебе за то, что не боишься волны…»
– Ай как врешь! – радостно сказал татарчонок.
– А вот и не вру!.. Если не верите, пойдем спросим у тетушки. У моей… Это рядом.
– То-то тетушка обрадуется таким гостям… – усмехнулся длинный. И потрогал нижнюю губу языком.
– Вы же не чай пить придете, а только спросить, – усмехнулся и Коля. Страху у него поубавилось.
Длинный сказал сумрачно:
– Да уж где нам с вами чай пить. Вы небось из дворян.
– Фрол, это, видать, те, кто у Кондратихи дом сняли! – вмешался старший из братьев. Тощий Фрол эту догадку пропустил мимо ушей. Спросил деловито:
– Может, сшибемся?
– Это как?.. Драться, да? – дошло до Коли. И внутри у него тоскливо заныло.
– Ага, – заулыбался Фрол. – Один на один, по-честному. Или в коленках заслабило?
– Нигде не заслабило… Только я не понимаю. Зачем? Я же ничего худого вам не сделал… – И вдруг вспомнил: похожий разговор уже был. Три месяца назад. С него-то и начались в корпусе те невыносимые дни отчаянья и стыда… Нет уж, второму разу не бывать! И стиснул кулаки: – Ну, давай, ежели у тебя чешется!
– Снаружи петух, а внутри мышонок, – хмыкнул Фрол. – Видно ведь, что вспотел с перепугу. В Петербурге все такие боязливые?
– Зато ты какой храбрый! – Коля злостью старался перебить внутреннюю дрожь. – С теми, кто меньше ростом!
– Да неужто я сам буду с тобой сшибаться! – Фрол сделал вид, что очень удивлен. – Пускай вот хоть он, Макарка…
Эта война идет давно,
Это война между мирами,
Ее не видно все равно,
Ну а война между Богами.
Никто не знает, почему,
Никто не знает, что случится,
Наверно, свет не принял тьму,
А тьма со светом не сроднится.
И гром гремит, землетрясенье,
Цунами, штормы и дожди.
И это не природы мненье -
Это война во мраке лжи.
Давно уж это, век за веком
Они не слышат никого,
А людям слышны грозы эти
И больше, больше ничего.
На небе Ангел, в подземелье Дьявол -
Два Бога, два Глупца...
Война идёт, никто не знает, что был последний лунный свет
и не кричали еще люди под взрыв снарядов "Стойте! Нет!"
еще не убивали люди, что б нашу родину спасти
не слышали еще солдаты простого крика "Помоги!"
Война идёт и танки двинут
а люди все спокойно спят
и многие из них погибнут
и многие из них згорят
Но наши выборят победу
Хоть сложною для них ценой
они спасут нас что б мы жили
Чтоб жили правдою одной
Что бы любили мы и ждали
Что бы мы верили в себя
и все вершини...
Давно стихи Вам не писал,
Не посылал привет с дороги.
Жаль сам посланий не листал *
Давно стихи Вам не писал,
Не посылал привет с дороги.
Жаль сам посланий не листал
От моей хитрой «недотроги».
Все это время лишь мечтал
Губами алых губ коснуться,
Безумной влагой захлебнуться
В глубинах женственных начал.
Судьбу свою я пролистал,
Всю, по сценарию романа.
В нём кульминации кристалл -
Любовь источником дурмана.
Отвык о сексе говорить.
Практиковать – не разучился...
Давно распявшие Христа,
Понять никак не могут люди,
Зачем их жизнь здесь прожита,
И что же дальше с ними будет?
В субботу ночью вновь Звезда
Взойдет на синем небосклоне,
Он возвращается всегда,
Мы жизнью у Христа в полоне.
И схема эта так проста:
Тебя предаст твой друг нежданно,
"Распни его!"- кричит толпа,
Он говорит, что Богом данный.
Твердит, что Бог - его Отец,
И выше Царство, что на небе,
Нам лишь земной знаком венец,
Живем в заботах мы о хлебе.
В субботу ту его...
Война...война...война...война...
Отбойным молотком в сознанье это слово!
Когда же кончиться она???
Я спрашиваю БОГА сново...сново..сново.
Безумье..слезы...смерть кругом!
Сплошная ненависть царит к друг другу.
Все остальное оставляем на потом...
Как в лабиринте все, метаемся по кругу.
Война...война...война..война...
Как смерчь проноситься, круша все на пути.
Когда же кончиться она????
Я Небеса прошу ответ нам всем найти!!!
Кто прав, кто виноват во всем???
Вселенная обрушит гнев свой...
Закончить жизнь с тупой усмешкой,
Застывший крик,одно - Люблю!
И знать,что ты об этом не услышишь
И не осудишь смерть мою.
А что мне остаётся делать,
Жить прошлым,грусть свою даря?
А так,как будто это подвиг
Ради любви,ради... тебя.
Безумно фонари мелькают
И скорость будоражит ум.
В слезах ни капли нет отчаянья.
А мне б - предсмертный поцелуй...
Ни визга шин,ни грохота от взрыва,
Последний вздох,как бы - прощай...
И в миг расплющенное тело
И искорёженный металл...
Война умов, война приоритетов,
Война нашедших, потерявших вновь,
Война ограничений и запретов,
Как в кинофильме "Вечный зов".
Идёт война другая... информаций,
Кто больше знает, тот герой,
Нео Политика фантазий и новаций,
Не поднимая руки, просто стой!
Ещё иная есть война... у звёзд,
А стало быть, то звездная война,
Построив там коттеджей-гнёзд)
Купюра пачек, что всегда права.
Не понимаю лишь одну войну,
В стихах, которая ведётся зря,
Кому нужна она... не понимаю...
Владислав Крапивин
Давно закончилась осада…
Первая часть
Сказки развалин
Стрельба на Пятом бастионе
У Фрола был пистолет.
На пути не стой, у меня пистоль… - приговаривал иногда тощий тонкошеий Фрол и поглаживал за пазухой кривую рукоять. При этом голос его звучал шутливо и даже ласково, но в прищуренных глазах ласки не было.
Старинное слово «пистоль» очень подходило для этого грозного предмета. Пистолеты подобного образца даже до войны считались устаревшими. Конечно, во время осады ими еще пользовались - и русские, и французы, и особенно турки (у тех вообще встречалось оружие времен покорения Крыма), однако пользы в бою от таких кремневых громыхальников было немного. Что они по сравнению с шестизарядными французскими револьверами!
Впрочем, и Фролкин пистолет оказался из Франции. На внутренней стороне фигурно выгнутой скобы были различимы буквы: Paris 1837.
Фрол отыскал этот трофей на пустоши перед бывшим люнетом Белкина, недалеко от кладбища, среди груд мусора и земли. Здесь много чего можно было отыскать. Во время осады русские минеры заложили на этой пустоши фугасы, и сигнал электрической искры в один миг обратил в прах атакующую французскую колонну…
Впрочем, все это Коля Лазунов узнал позже. А со стрельбы из старого пистолета началось его прочное знакомство с компанией из Боцманского погребка.
В тот ноябрьский день Татьяна Фаддеевна впервые позволила Коле погулять одному. До сей поры не решалась: всюду развалины, черные окна пустых домов, изгибы каменных заборов и переулков, где чудится неведомое. И мальчики, которые порой встречались ей, вызывали невольный страх. Неумытые, верткие, с быстрыми уклончивыми взглядами, в немыслимом каком-то платье. Конечно, дети всегда дети, но кто знает, сколько дурного впитали они от здешней неустроенной жизни…
Однако нельзя постоянно держать у своей юбки племянника, которому скоро двенадцать.
Все-таки она сказала от калитки:
Николя, я умоляю. Не ходи далеко и не гуляй долго. На первый раз хватит и получаса…
Думала, он станет ершиться: что, мол, я разве маленький! Но Коля отозвался покладисто:
Тё-Таня, я только до спуска к дороге и обратно. Не бойтесь, никуда не денусь.
Поправил капитанскую фуражку, простучал сапожками по плитам с подсохшей грязью и свернул (не оглянувшись!) в проход между известняковой изгородью и бугристой туфовой стеной разбитой казармы.
Татьяна Фаддеевна сделала усилие, чтобы не пойти следом. Глянула на приколотые к блузке часики и ушла в дом. Коля же, избавившись от тревожного взгляда в спину, попрыгал вниз по скругленным выступам каменистой тропинки.
День был холодный, ветреный, но сухой. Солнце то и дело выскакивало из серых облаков. Кое-где зеленела трава и желтела храбрая упрямая сурепка, но высокие сорняки были уже сухие и серые. Бурьян и полынь… Впрочем, ведь и летом полынь кажется сероватой. Коля сам не видел, но читал про это.
У крепостного палисада
Седеет древняя полынь…
Он дернул пальцами хрупкий куст, растер в ладонях зернышки, поднес руки к лицу. Полынный запах знойного лета сразу будто пропитал его насквозь. Коля постоял зажмурившись. А когда опустил ладони и открыл глаза, увидел мальчишек.
Разумеется, это были местные жители, хозяева здешних пустырей и переулков.
Идти навстречу Коля не решился. Повернуться и зашагать назад - тем более (хватит с него прежнего малодушия!). Оставалось смотреть, как подходят они. И стараться выглядеть при этом независимо.
Ребят было пятеро. Самый большой двигался посредине. Был он длинный, постарше Коли, в замызганной чиновничьей тужурке до колен, из-под которой торчали серые лохматые штаны. А из них - голые (видать, озябшие) щиколотки. Башмаки были из рыжей кожи, разбитые и чересчур большие. Из ворота тужурки высовывалась немытая шея с головой, похожей на покрытое рыжеватым пухом яйцо (шапки не было).
Слева от длинного шли круглолицый татарчонок в бархатной затертой шапчонке, в стеганом рванье до пят и смуглый, верткий мальчишка с быстрым веселым взглядом - про такого говорят «востроглазый». Был востроглазый в косо надетом рваном треухе и в серой, без приметных деталей одежке. И он, и татарчонок - чуть поменьше Коли.
С другого «фланга» двигались двое. Один - видимо, Колин одногодок, другой - лет восьми. Кажется, братья. Оба круглощекие, светлоглазые, с похожими на кукольные башмачки носами. В аккуратных бушлатиках (наверно, перешитых из взрослой флотской одежды), в мятых матросских фуражках без козырьков - слишком больших, как и Колина «ропитовская» капитанка. Штаны братьев украшали на коленях одинаковые квадратные заплаты, а сапожки были без заплат - грязные, но вполне справные.
Братья смотрели с любопытством и, кажется, без вражды. Татарчонок - непонятно. Востроглазый - подозрительно. Длинный оттопырил большую нижнюю губу и на ходу щелкал по ней мизинцем.
Остановились в трех шагах. Длинный еще раз щелкнул по губе и прошелся по Коле скучноватым взглядом.
Ишь какой… Раньше не встречались. Кто таков и откуда взялся?
Из Петербурга. - Коля постарался говорить независимо, но без задиристости. Глядишь, встреча обойдется миром.
У-у… - с дурашливым удивлением отозвался длинный. И остальные (кроме маленького) вытянули губы трубками, словно тоже хотели сказать «у-у».
Длинный опять щелкнул по губе.
А фуражка-то капитанская откуль? Небось папенька подарил?
Папеньки у меня нет… - Коля понимал, что в ответ на это спокойное признание насмешки не последует. Ведь не злодеи же, хотя и обтрепанного вида.
И в самом деле, смущенье скользнуло по всем лицам. Но его тут же как бы стер своими словами востроглазый:
Значит, маменька купила. В «ропитовской» лавке.
Маменьки тоже нет… А фуражку подарил капитанский помощник на пароходе «Андрей Первозванный», когда мы плыли сюда из Одессы.
Это за какие твои красивые глаза? - с прежней скукою в голосе не поверил длинный. Как бы специально не придавая значения тому, что нет у мальчика ни отца, ни маменьки.
Не за глаза, а… потому что был шторм, многие укачались, а я вышел гулять и забрался на мостик. Там были моряки, один и говорит: «Вот тебе за то, что не боишься волны»…
Ай как врешь! - радостно сказал татарчонок.
А вот и не вру!.. Если не верите, пойдем, спросим у тетушки. У моей… Это рядом.
То-то тетушка обрадуется таким гостям… - усмехнулся длинный. И потрогал нижнюю губу языком.
Вы же не чай пить придете, а только спросить, - усмехнулся и Коля. Страху у него поубавилось.
-------
| сайт collection
|-------
| Владислав Петрович Крапивин
| Давно закончилась осада…
-------
У Фрола был пистолет.
– На пути не стой, у меня писто́ль… – приговаривал иногда тощий тонкошеий Фрол и поглаживал за пазухой кривую рукоять. При этом голос его звучал шутливо и даже ласково, но в прищуренных глазах ласки не было.
Старинное слово «пистоль» очень подходило для этого грозного предмета. Пистолеты подобного образца даже до войны считались устаревшими. Конечно, во время осады ими еще пользовались – и русские, и французы, и, особенно, турки (у тех вообще встречалось оружие времен покорения Крыма), однако пользы в бою от таких кремневых громыхальников было немного. Что они по сравнению с шестизарядными французскими револьверами!
Впрочем, и Фролкин пистолет оказался из Франции. На внутренней стороне фигурно выгнутой скобы были различимы буквы: «Paris 1837».
Фрол отыскал этот трофей на пустоши перед бывшим люнетом Белкина, недалеко от кладбища, среди груд мусора и земли. Здесь много чего можно было отыскать. Во время осады русские минеры заложили на этой пустоши фугасы, и сигнал электрической искры в один миг обратил в прах атакующую французскую колонну…
Впрочем, все это Коля Лазунов узнал позже. А со стрельбы из старого пистолета началось его прочное знакомство с компанией из Боцманского погребка.
В тот ноябрьский день Татьяна Фаддеевна впервые позволила Коле погулять одному. До сей поры не решалась: всюду развалины, черные окна пустых домов, изгибы каменных заборов и переулков, где чудится неведомое. И мальчики, которые порой встречались ей, вызывали невольный страх. Неумытые, верткие, с быстрыми уклончивыми взглядами, в немыслимом каком-то платье. Конечно, дети всегда дети, но кто знает, сколько дурного впитали они от здешней неустроенной жизни…
Однако нельзя постоянно держать у своей юбки племянника, которому скоро двенадцать.
Все-таки она сказала от калитки:
– Николя́, я умоляю. Не ходи далеко и не гуляй долго. На первый раз хватит и получаса…
Думала, он станет ершиться: что, мол, я разве маленький! Но Коля отозвался покладисто:
– Тё-Таня, я только до спуска к дороге и обратно. Не бойтесь, никуда не денусь.
Поправил капитанскую фуражку, простучал сапожками по плитам с подсохшей грязью и свернул (не оглянувшись!) в проход между известняковой изгородью и бугристой туфовой стеной разбитой казармы.
Татьяна Фаддеевна сделала усилие, чтобы не пойти следом.
Глянула на приколотые к блузке часики и ушла в дом. Коля же, избавившись от тревожного взгляда в спину, попрыгал вниз по скругленным выступам каменистой тропинки.
День был холодный, ветреный, но сухой. Солнце то и дело выскакивало из серых облаков. Кое-где зеленела трава и желтела храбрая упрямая сурепка, но высокие сорняки были уже сухие и серые. Бурьян и полынь… Впрочем, ведь и летом полынь кажется сероватой. Коля сам не видел, но читал про это.
У крепостного палисада
Седеет древняя полынь…
Он дернул пальцами хрупкий куст, растер в ладонях зернышки, поднес руки к лицу. Полынный запах знойного лета сразу будто пропитал его насквозь. Коля постоял зажмурившись. А когда опустил ладони и открыл глаза, увидел мальчишек.
Разумеется, это были местные жители, хозяева здешних пустырей и переулков.
Идти навстречу Коля не решился. Повернуться и зашагать назад – тем более (хватит с него прежнего малодушия!). Оставалось смотреть, как подходят они. И стараться выглядеть при этом независимо.
Ребят было пятеро. Самый большой двигался посредине. Был он длинный, постарше Коли, в замызганной чиновничьей тужурке до колен, из-под которой торчали серые лохматые штаны. А из них – голые (видать, озябшие) щиколотки. Башмаки были из рыжей кожи, разбитые и чересчур большие. Из ворота тужурки высовывалась немытая шея с головой, похожей на покрытое рыжеватым пухом яйцо (шапки не было).
Слева от длинного шли круглолицый татарчонок в бархатной затертой шапчонке, в стеганом рванье до пят и смуглый, верткий мальчишка с быстрым веселым взглядом – про такого говорят «востроглазый». Был востроглазый в косо надетом рваном треухе и в серой, без приметных деталей одежке. И он, и татарчонок – чуть поменьше Коли.
С другого «фланга» двигались двое. Один – видимо, Колин одногодок, другой – лет восьми. Кажется, братья. Оба круглощекие, светлоглазые, с похожими на кукольные башмачки носами. В аккуратных бушлатиках (наверно, перешитых из взрослой флотской одежды), в мятых матросских фуражках без козырьков – слишком больших, как и Колина «ропитовская» капитанка. Штаны братьев украшали на коленях одинаковые квадратные заплаты, а сапожки были без заплат – грязные, но вполне справные.
Братья смотрели с любопытством и, кажется, без вражды. Татарчонок – непонятно. Востроглазый – подозрительно. Длинный оттопырил большую нижнюю губу и на ходу щелкал по ней мизинцем.
Остановились в трех шагах. Длинный еще раз щелкнул по губе и прошелся по Коле скучноватым взглядом.
– Ишь какой… Раньше не встречались. Кто таков и откуда взялся?
– Из Петербурга. – Коля постарался говорить независимо, но без задиристости. Глядишь, встреча обойдется миром.
– У-у… – с дурашливым удивлением отозвался длинный. И остальные (кроме маленького) вытянули губы трубками, словно тоже хотели сказать «у-у».
Длинный опять щелкнул по губе.
– А фуражка-то капитанская откуль? Небось папенька подарил?
– Папеньки у меня нет… – Коля понимал, что в ответ на это спокойное признание насмешки не последует. Ведь не злодеи же, хотя и обтрепанного вида.
И в самом деле, смущение скользнуло по всем лицам. Но его тут же как бы стер своими словами востроглазый:
– Значит, маменька купила. В «ропитовской» лавке.
– Маменьки тоже нет… А фуражку подарил капитанский помощник на пароходе «Андрей Первозванный», когда мы плыли сюда из Одессы.
– Это за какие твои красивые глаза? – с прежней скукою в голосе не поверил длинный. Как бы специально не придавая значения тому, что нет у мальчика ни отца, ни маменьки.
– Не за глаза, а… потому что был шторм, многие укачались, а я вышел гулять и забрался на мостик. Там были моряки, один и говорит: «Вот тебе за то, что не боишься волны…»
– Ай как врешь! – радостно сказал татарчонок.
– А вот и не вру!.. Если не верите, пойдем спросим у тетушки. У моей… Это рядом.
– То-то тетушка обрадуется таким гостям… – усмехнулся длинный. И потрогал нижнюю губу языком.
– Вы же не чай пить придете, а только спросить, – усмехнулся и Коля. Страху у него поубавилось.
Длинный сказал сумрачно:
– Да уж где нам с вами чай пить. Вы небось из дворян.
– Фрол, это, видать, те, кто у Кондратихи дом сняли! – вмешался старший из братьев. Тощий Фрол эту догадку пропустил мимо ушей. Спросил деловито:
– Может, сшибемся?
– Это как?.. Драться, да? – дошло до Коли. И внутри у него тоскливо заныло.
– Ага, – заулыбался Фрол. – Один на один, по-честному. Или в коленках заслабило?
– Нигде не заслабило… Только я не понимаю. Зачем? Я же ничего худого вам не сделал… – И вдруг вспомнил: похожий разговор уже был. Три месяца назад. С него-то и начались в корпусе те невыносимые дни отчаянья и стыда… Нет уж, второму разу не бывать! И стиснул кулаки: – Ну, давай, ежели у тебя чешется!
– Снаружи петух, а внутри мышонок, – хмыкнул Фрол. – Видно ведь, что вспотел с перепугу. В Петербурге все такие боязливые?
– Зато ты какой храбрый! – Коля злостью старался перебить внутреннюю дрожь. – С теми, кто меньше ростом!
– Да неужто я сам буду с тобой сшибаться! – Фрол сделал вид, что очень удивлен. – Пускай вот хоть он, Макарка…
Уже после, вспоминая эту встречу, Коля сообразил: тут Фрол дал ошибку. Если бы он сказал «пускай Макарка дерется, да только он ведь не захочет», востроглазый мальчишка тут же взвинтился бы: «Как это не захочу!» И полез бы в драку. Потому что был он великий спорщик, отчего и носил кличку «Поперешный». А сейчас Макарка взъелся на Фрола:
– Чего ты меня науськиваешь, как цуцика на кошку! Себе для потехи?
– Не хочешь – не надо, – миролюбиво откликнулся Фрол. – Тогда пускай Федюня…
Но старший из круглощеких братьев кулаком вытер под носом и рассудил:
– А чего зря махаться-то? Он же и правда худого не сделал.
«Татарчонок тоже не станет драться. Мелковат и не сердит», – смекнул Коля и ободрился. Кивнул на самого маленького:
– Ты еще вот его на драку подвинь…
Федюня обнял того за плечо. И вдруг улыбнулся (а глаза у обоих васильковые):
– Не, Савушка никогда не дерется, у него злости ни к кому не бывает…
Савушка смущенно засопел.
Фрол заметно пошел на попятную:
– А я чего… Это же не по злости, а по обычаю, для знакомства. Чтобы видно сразу было – герой или трус… Ты какой?
Коля пожал плечами. То, что трус, знать они не должны.
– Я, наверно, не тот и не другой. Обыкновенный…
– Хитрый! – весело сказал татарчонок.
– Ничуть я не хитрый. Кабы хитрый был, сказал бы, что герой…
– Здесь героями никого не удивишь, – с легким зевком заметил Фрол. – Целый год держали город одним геройством…
– Ну, не ты же держал! – не стерпел Коля, хотя спорить было неразумно.
– Не я, конечно, мне тогда всего год был от роду, мамка от бомб в погребе прятала. А дед погиб на Втором бастионе. И мамкин брат, то есть дядюшка мой, тоже здесь голову положил…
– Ну и мой дядя тоже… Артиллерийский поручик Весли Андрей Фаддеевич. На Северном кладбище похоронен. Мы с тетушкой потому и приехали, что здесь его могила…
В лицах у всех сразу что-то изменилось.
– А на какой он был батарее? – живо спросил востроглазый Макарка.
– Тетушка не знает точно, а я тем более. Давно же было… А погиб он не на батарее, а просто на улице. Бомба прямо под ноги – вот и все…
Конечно, можно было сказать, что Андрей Фаддеевич героически погиб при отражении штурма на Малаховом кургане, но врать про такое было грешно. И Коля добавил себе военной славы с другой стороны:
– А папенька тоже воевал. Вернее, лечил раненых прямо под обстрелом. Только не здесь, а в Бомарзунде…
– Это где же? – недоверчиво спросил Фрол.
– На Балтийском море.
– Разве там тоже воевали? – опять усомнился Фрол.
– А как же! И там, и на Белом море, и даже на Тихом океане, где Петропавловск. Адмирал Непир почти к самому Петербургу эскадру подвел, грозился взять Кронштадт, да его хорошо отогнали…
– И здесь бы отогнали, кабы сил хватило, – ревниво встрял Макарка.
– Кто же спорит… – с пониманием сказал Коля. И этим как бы поставил себя уже не против мальчишек, а рядом с ними.
– А папеньку тоже убило? – участливо спросил синеглазый Федюня. – В этом, в Бом… зун…
– Нет, он уже после умер, когда мне было три года…
– Хочешь с нами пойти в одно дело? – спросил Фрол.
Коля понял: драки окончательно не будет и вроде бы его берут в приятели. И все же не сдержал опаски:
– А что за дело-то?
– Опять забоялся, – съехидничал проницательный Макарка.
Но Фрол добродушно хлопнул его по треуху:
– Заноза… – А Коле разъяснил: – Знатное дело… Побожись, что не разболтаешь.
Да, его принимали в компанию, но и проверяли при этом. Что было делать? Коля охнул про себя и широко перекрестился:
– Ей-богу, вот… Никому ни словечка.
– Тогда гляди, – и Фрол распахнул тужурку. Из-под рваной подкладки торчала изогнутая рукоять с частой резьбой и медной головкой. Сразу ясно – что.
– Ух ты! Настоящий?
– А то!.. Хочешь стре́льнуть?
Коля не знал, хочет ли. Вернее, знал, что… не очень хочет. В жизни стрелять еще не приходилось. Небось эта штука грохает, как пушка. А ежели разорвет от ржавости или неправильного заряда?
– Я… хочу, конечно…
– Тогда идем. Здесь не с руки, услышат – крик подымут…
– Далеко ли идти-то? – последний раз поосторожничал Коля.
– Недалече.
Пошли ватагой по улице, что тянулась по западному склону Артиллерийского холма. Мимо побеленных домиков и каменных заборов, мимо серой стены порохового склада. К началу осады порох отсюда был почти весь развезен по батарейным погребам, и это спасло слободку. Иначе калёные французские ядра могли бы учинить немалую беду. А так – пронесло. Остатки пороха, что хранились глубоко под землею, взорвали уже сами русские матросы, когда оставляли город. От взрыва длинное здание треснуло и осело, но соседние дома почти не пострадали. Конечно, немало из них и без того было порушено – бомбами, что летели со стороны Херсонеса и горы Рудольфа. Но все же стрельба по этому флангу обороны была не в пример слабее, чем, скажем, по Четвертому бастиону или Малахову. Седьмой бастион и Восьмая батарея уцелели, Шестой бастион тоже сохранил свои каменные башни. И многие постройки слободки тоже остались целы. А разбитые дома заново сложили вернувшиеся хозяева или те, кто перебрался сюда с полностью разрушенных улиц Городского холма и Корабельной стороны.
Сейчас Артиллерийская слободка казалась почти нетронутой обстрелами, тогда как остальной город по-прежнему лежал в руинах и там лишь ближнему внимательному взгляду открывались посреди развалин явления жизни…
«Недалече» оказалось довольно-таки отдаленным, и Коля понимал, что едва ли через полчаса окажется дома и что объяснения с Тё-Таней не миновать. Однако разговор отвлекал от беспокойства. В разговоре спросили наконец, как его, новичка, зовут, и назвали себя. Коля узнал «поперешное» прозвище Макарки и то, что татарчонка кличут Ибрагимкой. А еще услыхал небрежный, с приплевыванием рассказ Фрола, как он отыскал «пистоль».
Фрол деловито разъяснил, что с боевыми припасами для пистолета никаких трудностей нет. Даже сейчас, через одиннадцать лет после осады, в старых орудийных погребах можно еще найти картузы с порохом. Снаружи они покрыты затвердевшей коркой, но внутри порох вполне пригодный, надо только размолоть, если шибко крупные зерна.
Хуже с кремнями для курка, но их тоже можно отыскать или выменять.
А пули для ствола (в который свободно входит указательный палец) годятся всякие – и конические «миньки» от иностранных нарезных ружей, и русские «полушарки», что наши солдаты отливали прямо в окопах. Этого добра можно было при старании накопать в земляных брустверах целую горсть за один поход. Назывались пули «орехи» и летним туристам продавались по алтыну за десяток…
Порох Фрол держал в круглой жестянке от леденцов фабрики «Бургеръ и бр.», «миньки» – прямо в кармане, а серый кремешок был закреплен в винтовом зажиме пистолетной собачки. Все это Фрол на ходу показал Коле и погладил гнутую ручку.
На пути не стой,
У меня пистоль…
А Коля успел заметить на металлической щечке пистолета гравированную картинку: оленя и нападавших на него собак.
Наконец глинистая дорога пошла под уклон, разделилась на несколько тропинок, и тропинка, которую выбрал Фрол, завиляла среди каменных и земляных груд. Привела к сложенной из желтых брусьев стене – низкой, с разбитым верхом (позже Коля узнал, что это остаток казармы Пятого бастиона).
Вдоль стены шла осевшая насыпь, где желтела все та же храбрая сурепка. Между стеною и насыпью был неширокий проход, и его с одной стороны замыкало кирпичное сооружение – что-то вроде большой разбитой печи. В двух аршинах от земли кирпичи образовали широкий выступ. Проворный Савушка подбежал и поставил туда квадратную бутылку мутного стекла (и где взял – неужто нес за пазухой?).
Потом Савушка – он, видать, крепко знал свои задачи – вспрыгнул в разбитый проем казарменной амбразуры и стал на часах. Фрол же начал заряжать пистоль.
Все, притихнув, смотрели, как он с клочка бумаги высыпает в дуло черную крупу, как сворачивает и забивает шомполом бумажный пыж, а затем – похожую на пробку с узким рыльцем пулю. Он подсыпал пороху на полочку у затравки, щелкнул над нею железным лепестком, оттянул курок.
– На пути не стой… – и навел пистолет на бутылку. Шагов с семи.
Савушка в амбразуре зажал уши. Ибрагимка тоже – с виновато-дурашливой улыбкой. Другие не стали. И Коля не посмел, хотя понимал: ох и грянет!
И грянуло!
Вспухло синее облако. Но за миг до того Коля заметил, как искрами брызнуло горлышко бутылки. А она даже не упала!
Сквозь упругий гул в ушах Коля услыхал обрадованные крики и довольные слова Фрола:
– Во как надо! Бах из ствола – и нету горла́… А теперь давай ты. – Это он Коле.
Коля судорожно кивнул. И пока опять заряжали пистолет, он догадливо думал, что Фрол целил в середину бутылки, а в горлышко попал случайно. И теперь скажет: «Бутылку я оставил для тебя…»
– Бутылку-то я оставил для тебя. Во какая большая, не промажь…
Коля знал, что промажет.
Когда он поднял тяжелый пистолет, конец ствола заплясал перед глазами и начал выписывать восьмерки. А бутылка – ее и совсем не разглядеть. Коля решил с обмиранием: нажму поскорее – и будь что будет. Но Фрол оказался рядом.
– Ты руку-то согни в локте, а локоть подопри левой. Вот так… И дыши спокойно, не как загнанная курица. Неужто раньше никогда не держал такой? Уметь должон, это же самое дворянское оружие. Говорят, из такого Пушкин стрелялся на дуели…
Коля глянул удивленно: ишь ты, про Пушкина знает! Фрол тут же прочитал его мысль:
– Ты думал, только в петербургских гимназиях все шибко умные, а здесь темнота?
– Ничего я такого не думал… – И Коля начал сердито целиться сызнова. И ствол плясал. Коля со злостью и страхом зажмурился и наугад надавил спуск.
Ахнуло пуще прежнего! Рвануло назад и вверх руку. Вновь заложило уши. Но сквозь плотную воздушную вату Коля расслышал опять радостные вопли. И разглядел сквозь дым, что бутылки нет, а есть на кирпичах лишь зазубренное донышко.
– Знатно, – снисходительно сказал Фрол. – Не зря я тебя учил.
Коля на радостях решил было признаться, что попал случайно и даже с перепугу. Но тут же сообразил, что такая честность сейчас едва ли на пользу. Дунул в ствол (чуть не чихнул при этом), подкинул пистолет, перехватил за ствол и протянул оружие Фролу рукояткой вперед. Этаким гвардейским жестом:
– Благодарю.
– Теперь я! – сунулся вперед Ибрагимка.
– Смотрите-ка: уши зажимал, а стрелять просится!
Бутылок больше не было, и Федюня приволок из мусора гнилой обрезок доски. Ибрагимка в доску не попал. Да и мудрено попасть, ежели стрелял, отвернувши лицо совсем за спину. Федюня тоже промазал, хотя целился по правилам. А Макаркина пуля отломила от доски щепку. И он дунул в ствол почти так же, как Коля.
Фрол начал заряжать сызнова, для второй очереди, но тут сдавленно крикнул от стены Савушка:
– Полундер! Семибас идет!..
Фрол в один миг сунул пистолет за кирпичи. За ним – жестянку с порохом. Прикрыл щель пучком сухого чертополоха. Коле сказал тихой скороговоркой:
– Про пистоль помалкивай. Пошел, мол, с ребятами «орехи» собирать…
После этого все со старательно беззаботным видом вышли из-за стены. У Коли беспорядочно тюкало в груди. Не от страха – от приключений.
По тропинке меж мусорных куч двигался к разбитой казарме дядька в полицейской шинели. Щуплый и невысокий, но седые усы и бакенбарды – что у генерала! Это был околоточный надзиратель Семибас. Коля несколько раз видел его издалека и прежде и от соседской девочки Саши знал, что зовут надзирателя Куприян Филиппыч.
– Доброго здоровья, дядя Куприян! – громко и наперебой заговорила вся (кроме Коли) компания. Макарка даже стянул с головы треух.
– И вам того же, спасибо на добром слове… – Голос у околоточного был похож на сиплый паровозный свисток. – А что за стрельба-пальба? Будто снова маршал Пелисье объявился! А? Фрол, это ты небось устроил штурм Пятого бастиона?
– Да что вы, Куприян Филиппыч! – с достоинством оскорбился Фрол. – Мы пошли за «орешками», а там незнакомые мальчишки. Видать, «корабельщики». У себя на Малахове все повыбрали и лезут на чужие места, да еще со стрельбой балуются. Мы подходим, а они бежать. А теперь будто мы виноватые!..
– Уж больно складно ты все излагаешь. А покажи-ка, любезный, что у тебя за пазухой? Может, там целый арсенал?
Фрол с тем же обиженным видом расстегнул чиновничий лапсердак, распахнул, как крылья. То же самое сделали, не дожидаясь приказа, и остальные, даже Савушка. Глядя на других, начал расстегиваться и Коля. Понимал: надо быть сейчас, как все.
Семибас зашевелил под лаковым козырьком кустистыми бровями:
– А тебя я, голубчик, что-то не примечал до сей поры. Откуда ты… откуда вы, молодой человек?
Опытный полицейский глаз почти сразу подметил отличие незнакомого мальчика от других. Белый шарфик под воротом аккуратно сшитого (хотя и «простонародного») армячка, ладные суконные штанишки с медными пуговицами под коленками, новенькие чулки в сине-красную поперечную полоску, чистые сапожки с узкими невысокими голенищами и тонким рантом. Только вот фуражка не по размеру, но и та не матросская, а с командирской эмблемою РОПИТа. И лицо – умытое с привычной тщательностью, не то что у здешних огольцов. Пухлогубое, но тонкое, с широко сидящими серыми глазами, которые могут с боязнью глядеть на незнакомых мальчишек, но уж никак не на околоточного надзирателя.
– Он из Петербурга! – сунулся вперед Макарка, посчитавший, что это сообщение уведет Семибаса от опасного разговора про стрельбу.
– А! Так вы, верно, племянник Татьяны Фаддеевны Лазуновой, что сняла квартиру у вдовы Кондратьевой?
– Да, сударь…
– Весьма приятное пополнение состава местных жителей… Однако же смею заметить, существование здесь не лишено трудностей. В городе ведь и гимназии нет, а вам, я полагаю, именно в ней следует обучаться…
– Меня записали в ремесленную школу.
– Да разве же такая школа для вас? Неужто вы собираетесь в мастеровые?